Вы здесь
Послесветие. «С ума сходили лучшие»
Любить бессолнечный мир трудно. День без солнца, два… Десятый бессолнечный день — мука. 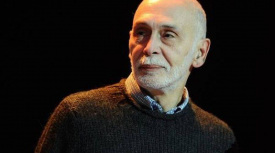 Одни приспосабливаются, другие, как Икары, ищут свободы и воздуха. Взыскующие света.
Одни приспосабливаются, другие, как Икары, ищут свободы и воздуха. Взыскующие света.
Рассказ «Солнце спускается за лесом» Леонида Юзефовича из тех, что неудержимо тянет перечесть, поскольку солнечное состояние — послесветие — остается надолго. Вполне понятное дело — Юзефович; тут не жди пролетарского языка, или навязанной сленговости, или банальности сюжета, то есть простоты прочтения.
В «Солнце» за незамысловатой на первый взгляд историей — позвонили в дверь, и юноша впустил в дом незнакомого мужчину — стоит целая эпоха: она и в тех причинах, почему тогда нищие ходили по подъездам, и в том, что пришедший — латышский стрелок (кто сейчас из молодых знает о латышских стрелках?), она и, безусловно, в лагерной пыли, что лежит на шинели гостя, которую тот аккуратно вешает на свободный крючок, стараясь не задеть своей судьбой лишенца (по сути, судьбой населения половины страны) чистенькое пальтишко молодого хозяина квартиры. А когда в тексте есть такая любопытная подоплека, то хочется заглянуть под эти пальто и шинель, пощупать изнанку и прояснить что-то важное, прежде промелькнувшее, но уплывшее мимо. Для самой себя прояснить.
Латышские стрелки — выходцы из Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний, воины Латышской стрелковой дивизии, в 1918 году ставшей регулярным соединением Красной армии. Наемники в дни становления советской власти, используемые, в частности, при комендантской охране Кремля и Смольного. Отличались дисциплиной, сплоченностью, исполнительностью, отвагой.
Читатель, вслед за гостем, видит благополучного городского мальчика (рассказ ведется от первого лица, как раз от имени студента-поэта). И уже во время неожиданного звонка в дверь мы узнаем о некоторой особенности нашего первокурсника, подчеркивающей наличие собственных суждений, и симпатизируем ему, едва познакомившись. «Я открыл, не спросив, кто там. Всю жизнь этот вопрос казался мне унизительным для моего мужского достоинства».
Теоретики литературоведения часто указывают на общепринятую ошибку: принимать автора за главного героя. Выбирая изложение от первого лица, как известно, автор одновременно дает себе право на вымысел и выражение позиции, хотя и сужает свою свободу. Но мы помним, рассказчик не тождественен писателю.
Итак, пока незваный гость моет руки, автор голосом разговорчивого юноши, чуть отвлекшись от основной истории, напластовывая сюжетные линии, дает историю второстепенную — буквально несколько слов о поэтическом кружке под руководством поэта Коли Гилёва. Сперва читателю непонятна обоснованность такой вставки, но, возможно, последующее повествование все прояснит: Коля-крест — двойник? А пока нам сказано, что страдающий от алкоголизма Гилёв находился на принудительном излечении в больнице и там «сияло солнце».
Если вернуться к незнакомцу, то не внешний вид: китель, стрижка, холщовая котомка — дает главному герою (и вслед за ним слушателям истории) понимание образа гостя. Нет, мы понимаем незнакомца по указанным вскользь деталям и характеру поведения: по деликатно оставленному нетронутым хозяйскому полотенцу, по ложке на краю тарелки, по невозможности есть борщ при серьезном разговоре. За тем самым разговором под борщ между хозяином и гостем возникает душевная близость: восторг мальчишки перед живым напоминанием о героической истории страны, скупой умный диалог, запись слов песни и даже просьба и попытка напеть народный сказ.
В возникшем чувстве сопричастности и в размышлениях о фольклорной перекличке национальных трагедий — о плаче как ностальгии — проявляются два разных солнца: холодное латышское и огненное греческое. «Латышка до такого отчаяния не доходила, но и солнце над ней было холоднее, чем над гречанкой, и от родного хутора ее отделяли не горы, а лес, вряд ли такой уж дремучий. Однако я понимал, кто говорит ее устами и чего это ему стоит». Здесь проступает на поверхность через поры души вечная людская боль о неминуемости страшных братоубийственных войн, гражданского противостояния.
И вновь заходит внутренний, подспудный разговор о Коле Гилёве. Он словно альтер эго главного героя-студента. Даже хотелось выдвинуть предположение — как бы и есть тот самый поэт или его вымысел. Но нет, нет. Автор не раз упоминает «нормальность» героя, а Гилёв побывал в психушке, страдал от прихода ночных фантомов. Гилёв — Икар, бесконечно и наперекор правящий крылья. Странный человек, стремящийся в космос не гагаринским путем, а своим собственным — гилёвским способом: влезть на маковку церквухи и застыть на острие с раскрытыми руками вместо отсутствующего креста. Коля-крест. И автор доходчиво поясняет недогадливым: «Я понимал его через Колю». Понимал латышского стрелка, гостя, зэка, через поэта. Себя понимал через фантом — «он без нажима, как и положено призраку, длинными, тонкими, воздушными буквами вывел в верхней части листа: Salve olis mesa nаgima».
Странность Гилёва попадать в нестандартные ситуации или странность поведения предыдущего руководителя поэтов-кружковцев, носившего не принадлежавший ему орден, поражает главного героя почти так же, как необычность позвонившего в дверь незнакомца. «Я тоже писал стихи, и меня пугала собственная нормальность». Юноша ищет в себе доказательство таланта, верными признаками которого, по его мнению, являются аномалия, нетипичность, выверт.
И автор как бы ведет нас по нарастающей — от стороннего наблюдения к изумлению — по фарватеру сравнений, по пределам «безумности»: от чудака-орденоносца к Гилёву, от Коли-креста к стрелку-«легионеру». И каждый из тех троих «выигрывает» у юноши в степени ненормальности. И через каждого, чередуя акцент и наводя фокус, он постигает себя — что с ним не так? Или слишком так?
Весь облик, скрытая внутренняя суть, манеры, скупая речь — все эти признаки жизни нового знакомца необыкновенно привлекают юношу. Но две вещи в госте поражают более других: это навечная теперь принадлежность к пораженцам (из легендарных — в лишенцы) и коробочка синего бархата с серьгами. На часть высланных денег освободившийся из лагеря (или психбольницы при лагере) покупает не билеты для возврата на родину, а подарок маленькой девочке — внучатой племяннице. Разглядывая камешки в серебре, наш герой вновь ощущает в себе «постыдную нормальность». Выходит, он-то не способен на неординарные поступки (орден, крест, серьги). «Сам я в его положении не осмелился бы так поступить». И это угнетает и навязывает разочарование в самом себе.
А не напрасно ли? Жизнь нелинейна, хоть и длинна. И в ее перипетиях человек, смолоду рефлексирующий, наверняка убедится в обратном и отыщет тот скрытый мотив, который и его — законопослушного — столкнет с дороги правил и условностей. Быть может, этот будущий мотив и примирит его с нынешним разочарованием. Еще будет и он взыскан солнцем. Не складывается идеал без изъянов. Сам юноша-рассказчик, возможно, и не столь вычурен в поступках, зато, безусловно, порядочен и, поменяйся он местами с гостем, вряд ли стал бы водить за нос человека, доверчиво предложившего кров и пищу.
Состоявшаяся встреча странностью своей, мимолетностью, эфемерностью могла бы и вовсе не отложиться в памяти героя рассказа, не догадайся он заполучить доказательства материального присутствия незнакомца. Но та же эфемерность оказала необычно стойкое воздействие на память и залегла в ней на долгие годы, заставляя возвращаться к истории знакомства вновь и вновь, мучая и вынуждая искать разгадку фразы, разувериваться, обвинять в подлоге, умысле, обмане доверчивых простаков, снова упорно дешифровать, как шумерскую клинопись, и докапываться до истины.
И невозможно не акцентировать тонкие, изящные сентенции повествования, носящие характер аксиом, которые автор органично использует на протяжении всего изложения истории.
«В нем ощущалось достоинство человека, не раз бывавшего на моем месте, поэтому точно знающего, как он должен вести себя на своем».
«Его прошлое отчасти уравняло нас в настоящем».
«…Молодость начала оживать и приближаться ко мне стремительнее, чем прежде от меня уходила».
«С ума сходили лучшие».
«Задача критики, которая и делает ее интересной, состоит в приращении смыслов литературного произведения... ...Взаимодействие (критика) с произведением имеет один интерес: интерпретация художественного текста, угадывание смыслов, которые отнюдь не лежат на поверхности», — обозначили недавно в «Литературной газете» авторы статьи «Критика и как с ней бороться».
Если исходить из этой задачи, то взыскательному читателю вскрывать, прочитывать подтекстовые идеи рассказа, не своевольничая, не приращивая, а угадывая вложенные автором смыслы, — вполне уместно и даже взаимно небесполезно.
В любом случае история «без имен» вышла весьма прелюбопытная, многослойная, трехдонная; из тех, что и читателю запоминаются навсегда, как притча, где солнце спускается за лесом. Эффект ее не в стилистических или интонационно-речевых особенностях, а на этот раз именно в сюжетной и фабульной основе. Авторская модальность здесь явственна, укрупнена, она без труда считывается при внимательном, не беглом чтении, что ныне, конечно, редкость.
Галина Калинкина
Галина Калинкина родилась и живет в Москве, окончила РГГУ.
В настоящее время редактор прозы и нон-фикшн сетевого критико-литературного журнала «Дегуста.ру».
Имеет публикации в журналах «Юность», «ЭТАЖИ», «Новый Свет», «Сибирские огни», «Textura», Pechorin.net, «Лит. Вторник», «Перископ-Волга», «Клаузура», «Культурная инициатива», «СЕВЕР», «Невский проспект», «Дегуста.ру», «ЯММА», «Камертон», «7 искусств», «Кольцо А», «ЛИterra», «ГуРу АРТ», ОРЛИТА, в интернет-журнале «ЧАЙКА» и в «Независимой Газете» (НГ-Exlibris).
Член жюри Международной литературной премии ДИАС–2021 им. Д. Валеева (Татарстан) и V Международной премии «Волга–Перископ» – 2021.
Лауреат нескольких международных литературных конкурсов (в т.ч. им. Бунина, им. Катаева, «Русский Гофман» и Волошинский сентябрь» (Критика)).
Обозреватель российских академических журналов на Pechorin.net.












